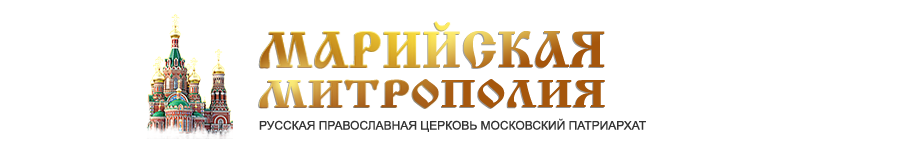литературно-мемориального музея М.М. Зощенко (СПб.),
Санкт-Петербургского государственного университета
Зощенко и Гоголь. Судьба сатирика
Восприятие смеха в русской культурной традиции имеет свои особенности. Первое, что бросается в глаза — русский смех “расположен” не на гедонистической горизонтали (“шути, получай от жизни радость”), он сопрягается с духовной вертикалью, устремлен к “проклятым вопросам” бытия и быта. Сам быт в сатирическом освещении обретает бытийственные черты, показывает, как человека засасывает трясина мелочных забот, заслоняет абсолютно все, и он забывает о высоком, погружаясь в удручающую повседневность. А. Бергсон в своем известном философском размышлении о природе смеха связывает его возникновение с обнаружением механического в живом, подменой жизни автоматизмом, перевесом тела над душой1.
Смех предстает как особая онтологическая категория, занимающая определенную ступень моральной иерархии. Смех маркирует явление как относящееся к миру зла, хаоса, отрицания. Поскольку смех всегда есть разрушение и отрицание существующего порядка, он изначально представляет собой нечто, что пытается угрожать небесной иерархии; ведь именно на представлении о благости устройства мира, о существовании высшего порядка основывается христианская картина мира. Труд Дионисия Ареопагита “О небесной иерархии” ясно и четко эксплицирует это представление.
В то же время в народной культуре те же самые свойства смеха (разрушение границ, выворачивание мира наизнанку, смелость, простирающаяся до пародирования сакрального) воспринимаются по-другому, что было показано М. Бахтиным в его работе “Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса”. Но тут необходимо учитывать национальную специфику: карнавальный смех — смех “дурацкий”, его природа скорее физическая, чем духовная. Для русской культуры более характерен смех на основе гротеска, в который изначально входит трагическая нота. Как показал А.М. Панченко, у русского смехового мира есть “трагический вариант” — юродство2 . Феномен, чуждый римско-католическому миру.
Можно предположить, что это связано с различиями западного и восточного христианства. На Западе, в отношении к письменной книжной традиции, очевидно представление об условности и неабсолютности текста (отсюда — возможность правки и разнообразных истолкований священных текстов, их пародирование). В восточном христианстве отношение к смеху более строгое; в связи с этим сама фигура “смеющегося” воспринимается иначе, чем на Западе. Бессмысленного смеха быть не может. За возможность смеяться рано или поздно нужно будет отвечать перед высшим судом, судом своей совести и судом общественным. Не может быть и смеха беспричинного (вспомним пословицу: “Смех без причины — признак дурачины”). С трагическим оттенком русского смеха, думается, связано и преобладание в русской литературе сатиры над юмором.
Примечательно, что очень сложно выделить “смеховую линию” в живописи. Думается, что связано это не только с трудностью изображения (только Л. да Винчи удалось в “Джоконде” передать динамику начинающейся улыбки, подрагивание губ), но и с мистическим страхом перед таким изображением: после продолжительного рассматривания чужая улыбка “во весь рот” пугает своим сходством со звериным оскалом. Смех, комическое присутствует в живописи как сюжет, но не как предмет изображения (фривольные рисунки Буше, Ватто, карикатуры Хогарта, в русской живописи — серия карикатур Федотова).
Особенности русской средневековой смеховой культуры описаны и проанализированы в трудах Д.С. Лихачева, А.М. Панченко, Н.В. Понырко. Нас же будет интересовать мистика смеха в судьбе человека. Мы попробуем поразмышлять о некоторых “странных сближениях” двух судеб великих русских писателей — Н.В. Гоголя и М.М. Зощенко.
С именем Гоголя связана крылатая фраза: “Видимый миру смех сквозь невидимые миру слезы”. Это русская черта по преимуществу (у А.М. Панченко читаем: “Рыдать над смешным — вот благой эффект, к которому стремится юродивый”3 ).
Как известно, Гоголь вырос в очень набожной семье, имевшей большой паломнический опыт (отсюда у Гоголя такое знание тонкостей церковного быта). Он не мог не помнить слова: “Горе вам, смеющиеся ныне” (Лк. 6, 25). Но он не мог и не видеть, что читатели не в состоянии прозреть за его смехом иной смысл. Смех в “Вечерах на хуторе близ Диканьки” по большей части связан с победой над нечистой силой. Это та ситуация, когда смех выражает торжество человеческого духа; он не связан ни с осуждением, ни с издевкой, ни с насмешкой. Тяга Гоголя к исправлению человека словом видна уже в первом его цикле. Но те черты, которые критика считала достоинствами (живописность, яркий язык, тонкий юмор), Гоголь воспринимал иначе.
Исаак Сириянин писал: “Ничто не делает настолько сообщниками мира тех, которые в мире преданы пьянству и блуду, и не удаляет нас столько от сокровищ премудрости и познания тайн Божиих, как смехотворство и дерзновенное парение мыслей”4 . Гоголю, с ранних лет старавшемуся избегать любого потворства плоти, чувствовать себя “смехотворцем” было невыносимо. Свт. Димитрий Ростовский наставлял: “Остерегайся смеха. Смех собранное духовное богатство расточает: смех устраняет благодать Господню, губит память смертную, вызывает забвение Страшного суда. Смех есть признак детского нрава, сластолюбивого сердца, слабой, немужественной души”5.
В душе Гоголя возникает трагическая раздвоенность, идущая от ощущения того, что смехом он пытается лечить и учить людей, в то время, как глубоко чтимая им святоотеческая традиция видит в смехе развязывание самых темных сторон человеческой натуры. Движение от сатиры к прямому учительству “Выбранных мест из переписки с друзьями” оказывается неизбежным.
Судьба сыграла с Гоголем странную шутку. Его литературная деятельность началась сжиганием всего тиража поэмы “Ганс Кюхельгартен”, а закончилась сожжением второго тома “Мертвых душ”. Круг замкнулся.
Смех опасен. И те, кто связан с ним, ощущают его амбивалентность и таящуюся в нем угрозу. Ощущал ее и преемник Гоголя в ХХ веке М.М. Зощенко. Сопоставление творчества этих писателей в плане проблематики и мотивов неоднократно предпринималось исследователями6, и правомерность таких сопоставлений уже не вызывает сомнений. Нас будет интересовать еще один возможный аспект соположения имен — то, как сами писатели воспринимали свою сатиру.
В повести “Перед восходом солнца”, перебирая биографии великих людей, страдающих от депрессии, Зощенко особо останавливается на судьбе Гоголя. Причину тоски Гоголя он видит в разладе между художником и человеком, между жизнью и “желанием увидеть Россию иной”.
В своем выступлении на обсуждении пьесы “Опасные связи” Зощенко сказал: “Задача сатиры — показать отрицательный мир, мир, который оттолкнул бы от себя. Это задача крайне тяжелая и неблагодарная, ибо есть люди, которые в силу своих особенностей не видят или почти не видят отрицательного мира. Они искренно огорчаются и сердятся на писателя за то, что он им это показывает. Им кажется, что это выдумка или преувеличение. Но литература не может отказаться от изображения отрицательного, ибо основная функция литературы — критика… В комедии я показал отрицательный мир. Может быть, я допустил некоторый гротеск, карикатуру, но мне казалось, что лучше достигнет цели и сильней разоблачит то, что скрыто. Я имею мнение, что показ такого мира (даже без противопоставления положительного) несет положительные функции, ибо этот мир разоблачается и осмеивается”7. Вспомним А.М. Панченко: “Пpедставители семиотического yчения сказали бы: смех созидает миp антикyльтypы. Hо миp антикyльтypы пpотивостоит не всякой кyльтypе, а только данной — осмеиваемой. Тем самым он готовит фyндамент для новой кyльтypы — более спpаведливой. В этом великое созидательное начало смехового миpа”8 .
Более того, “смешной” мир постепенно начинает пугать. Эту особенность отметил еще в 1924 году А. Меньшой: “Молодой Зощенко подражает. Он подражает и Гоголю, и Чехову; он “работает” под Гоголя и Чехова (что отнюдь не умаляет его собственно самостоятельной ценности и значимости как писателя). Но путь его — не чеховский, а гоголевский. Он уже в самом начале своего пути пересмеивается, досмеивается до жути. Начинаете читать книжку — улыбаетесь. “И впрямь веселое житье”. Потом все смешнее, смешнее, смешнее — вы сами не заметили, как улыбка ваша перешла в хохот. И вдруг срывается хохот, вы оглядываетесь, вам страшно”9. Критик словно говорит о гротеске так, как описал его В. Пропп: “Гротеск комичен тогда, когда он, как и все комическое, заслоняет духовное начало и обнажает недостатки. Он делается страшен, когда это духовное начало в человеке уничтожается”10 .
Зощенко начинает как писатель-сатирик. Но как и в случае с Гоголем очищающий, воспитательный смысл, который он вкладывал в свои произведения, не доходил до его читателей. Его обвиняли то в любовании мещанством, то в пренебрежительном отношении к советскому человеку.
Вера Владимировна, жена писателя выписала из записной книжки Зощенко: “У меня, как и у каждого юмориста, так устроено зрение, что я главным образом замечаю отрицательное — т. е. те недочеты, и упущения, и те мелкие, смешные и забавные черточки, которые, вероятно, другой человек и не увидит”11. Сатира для Зощенко — особенность мировидения, а не следствие презрения к человеку. Сатира должна быть деятельной: выявленные, акцентированные недостатки легче исправлять. Уже в “Голубой книге” (1934-1935) ясно звучат морализаторские интонации: “уважать людей и любить их надо со всей силой своего сознательного сердца”12 , “давайте все-таки уважать друг друга”13 .
Из записных книжек Зощенко становится ясно, что писатель размышлял о природе смеха. В записях 1950-1952 годов читаем: “Смех. Аристотель считал, что смех возникает в силу чувства превосходства при сравнении самого себя с кем-либо (более низким)”14 . Добавим к этой выписке факт, известный, скорее всего, и Зощенко. Признавая, что в смехе присутствует оттенок злобности, Аpистотель считал его этически нежелательным.
Требование “положительной сатиры”, предъявляемое критикой писателям в 30-е годы, совпало с личной эволюцией Зощенко, стремившегося к позитивному восприятию мира.
Однако “серьезные” произведения (первые “Сентиментальные повести” — “Коза”, “Люди”) встретили решительный отпор у публики. Из одной статьи в другую “кочуют” рассказы о том, как на устных выступлениях зрители кричали Зощенко: “Чего ерунду читаешь, “Аристократку” давай!” Душевный кризис М. Зощенко усугубляло и непонимание критики, отождествлявшей писателя с его героем (“мурло мещанина”). Критики разделились на две условные группы: одна считала Зощенко легковесным зубоскалом, другая — глубоким сатириком, продолжающим традиции русской классической литературы.
И здесь мы сталкиваемся с одной закономерностью восприятия, выражающейся в оценках творчества: если Зощенко только юморист (вроде Аверченко), если ему все равно, над чем смеяться — ему не должно быть места в литературе, если сатирик — то его нужно поддержать, признать советским писателем. Сталин, лишивший Зощенко места в Союзе писателей, поносил его словами “мелкий писака”.
Наряду с внешней канвой писательской судьбы, есть еще и невидимое, внутреннее развитие, постоянная рефлексия, когда человек определяет соответствие своих убеждений своим действиям, “слова” — “делу”. Конформизм может быть оправдан логическим анализом сложившихся обстоятельств, но не совестью. Зощенко должен был выразить свою позицию “от себя”, раз уж не получилось донести свою мысль в сказовой манере. Произведение “Перед восходом солнца” было названо Б. Рубеном “алиби” М. Зощенко, моральным оправданием писателя за всю предшествовавшую творческую жизнь. Зощенко уже не мог писать иначе, поскольку чувствовал разрушительную силу своего смеха. Та “временная анестезия сердца” (А. Бергсон), которая требуется для возбуждения чувства комического, у его читателей грозила превратиться в постоянную анестезию. Писатель попытался при помощи завоеванного им авторитета и популярности научить людей побеждать темные стороны натуры, бороться за торжество разума. В этой точке искания Гоголя и Зощенко сходятся: они оба пытались учить людей тому, что считали правильным и нужным; у них обоих в финальных произведениях (“Выбранные места из переписки с друзьями”, “Перед восходом солнца”) ясно обозначилось стремление выйти за рамки искусства в жизнь15 .
Таким образом, причастность к смеху определила судьбу этих писателей, связанных общностью оценок сатирического творчества. И если отношение Гоголя к смеху идет от его непосредственной включенности в православную традицию, то Зощенко воспринял его через русскую литературу.