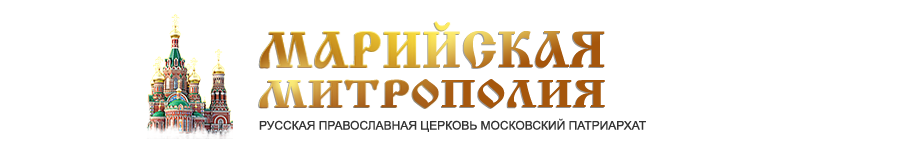Некоторые уроки Серебряного века
Эпоха рубежа ХIХ-ХХ столетий (обычно ее называют Серебряным веком) осталась в истории как пора замечательного расцвета искусства и литературы, пора творческих достижений, значительных не только для развития отечественной, но и мировой культуры. Закономерны восхищение ими, внимание исследователей и результат такого внимания к ним. Представляется уместным обратиться к некоторым проблемам художественного развития того времени ради извлечения уроков, которые в ряде аспектов требуют уточнения.
В отечественном искусствознании отмечены не только успехи художников модерна, но и характерные их неудачи. Так, считается признанным, что создание «большого стиля» все же не было осуществлено в полной мере, хотя такая задача ставилась. Причину неудачи Д.В.Сарабьянов1 увидел в образовании замкнутого круга: красота представала в качестве и цели, и средства ее достижения. Второй причиной неудачи, по мысли известного искусствоведа, стало отсутствие великой идеи — идеи объединяющей, необходимой для синтеза искусств, без которого не может быть «большого стиля».
Но достаточно убедительным является и представление о том, что такого рода идею художественным исканиям рубежа XIX-XX веков давало учение В.С. Соловьева о всеединстве2. Взгляд на мир как абсолютное становящееся (эту особенность учения о всеединстве отметил Н.О. Лосский3 ) соотносим с важнейшей эстетической универсалией, какой в ту эпоху стала «живая жизнь». Желание идти в искусстве во след «живой жизни» (по-разному сказавшееся в творчестве писателей, художников, деятелей театра, философов начала века4 ) дополняется и даже оттесняется стремлением к жизнетворчеству, настойчиво и бесстрашно реализуемым. В этом особенно заметен антропоцентризм эпохи. Не случайно ее называли и московским ренессансом, и северным возрождением. Согласно учению В.С. Соловьева, достаточно адекватно воспринятому, «сам человек не может обрести абсолютную полноту бытия, которая дается только посредством полного взаимопроникновения всех живых существ, объединенных любовью друг к другу и к Богу»5, При этом Н.О. Лосский, которому принадлежит высказывание, уверенно назвал философию Соловьева антропоцентрической6. Не потому ли она не препятствовала распространению идеи человекобожия, действительно объединившей Серебряный век с эпохой Ренессанса? Д.С. Мережковский в романе «Воскресшие боги (Леонардо да Винчи)», В.Я. Брюсов в романе «Огненный ангел» дали примеры ренессансного мифа в трактовке человека искусства рубежа веков. Идея человекобожия стала опорой жизнестроения.
Упоение творческими возможностями, безграничностью воображения проявилось в литературе, в пластических искусствах. Изобретательность создателей жилой cреды, творивших «миры», до сих пор дает материал дизайнерам. При этом уже тогда выявлялась в достаточной мере возможность суггестивного воздействия искусства. Особняки эпохи модерна признаны своеобразными сценариями, диктующими поведение, образ жизни их обитателям7. Происходила мифологизация повседневности художественными средствами. «Мифологическое начало превращало повседневное существование человека в некое действо, исполненное скрытого смысла»8, при этом инициатива преображения обыденности с целью вытеснения из нее заурядности, пошлости не всегда исходила от владельцев особняков, заказчиков. Чаще такой мир, где все утилитарное было осмыслено эстетически, создавался художником, архитектором.
Создание поэтами собственных, особых «миров», вовлекавших в себя читателя путем направленного суггестивного воздействия, тоже противостояло низменной обыденности. Пошлость и низменность часто трактовались в литературе этого периода именно как лицо обыденности (примером может быть роман Ф. Сологуба «Мелкий бес»). Сегодня, когда накопилось немало исследований, посвященных этим вопросам, известно, что героизация и мифологизация, занявшие ключевые места в искусстве, далеко не всегда достигали целей жизнестроения. Признано, что в значительной мере преображение жизни художественными средствами оставалось в пределах игры, театральность и карнавальность были не только темами произведений, но вторгались в жизнь. А ведь задача ставилась высокая. Продолжая традиции ХIX века и более далеких времен, искусство и литература на рубеже столетий особенно напряженно стремились осуществить такую связь «конечного» с «бесконечным», которая способствовала бы изменению жизни.
О попытках установить такую связь писала М.Н. Виролайнен, рассматривая жизнестроительство русских символистов в свете предложенной ею концепции типологии культурных эпох русской истории9. Согласно этой концепции, структура русской культуры включает в себя четыре уровня. Кроме уровня непосредственного бытия (психофизиологического) и уровня словесно-мыслительного (этими двумя уровнями, можно сказать, довольно долго ограничивалось литературоведение, говоря об отражении действительности литературой), М.Н.Виролайнен выделяет уровни парадигмы и канона. Парадигма (греч. — «образец») понимается как эталон, писанное правило. В воспроизведении действительности искусством парадигма выполняет роль ориентира, направляющего осмысление жизни художником, ориентира достаточно определенного и жесткого (известного, зафиксированного).
Сходный в этом с концепцией М.Н. Виролайнен типологический подход к литературе был предложен авторами «Исторической поэтики»10. От Гомера до 60-х годов XVIII столетия, по мнению коллектива авторов этого труда, образец, «готовое слово» как бы занимали место между непосредственно окружающей писателя действительностью и глазом писателя-художника, осмысляющего мир.
По концепции же М.Н. Виролайнен, в русской культуре до второй половины XVII века парадигма (образец) не главенствовала, а лишь посредничала (как и словесно-мыслительный уровень) между уровнем канона (верховного регулятора всей культуры) и непосредственным бытием. Принципиальное отличие канона от парадигмы — в его способности оставаться «неписанным», неявленным, но необходимым, несомненно главенствующим и выявляющимся. Эта особенность канона поясняется автором концепции на примере иконописи: «иконописец подражает написанной прежде него иконе (но в то же время подражает и небесному каноническому образцу)»11.
Такой подход не противоречит духу церковного искусства, которое в завершающемся столетии пришлось заново осмыслить. О. Сергий Булгаков, видя в иконописных «подлинниках» «начало дисциплинарное, род духовной цензуры», трактовал канон в иконописи как церковное Предание. Именно с этой точки зрения «иконный канон не должен быть понимаем как внешнее правило и неизменный закон, который требует себе пассивного, рабского подчинения»12.
Современные богословы и иконописцы, говоря об иконописном каноне и каноне в широком смысле — как части Предания, — подчеркивают, что понятия «канон» и «устав», «закон», «традиция» не тождественны13. «Когда человек живет и творит по канону — он в свободе Духа Святаго, даруемой Отцом через Христа. В той свободе, которой не могли и не могут принять законники. (...) Постигая канон, мы осваиваем верную систему отбора ценностей»14. В церковном искусстве «икона не изображает, а являет»15 образ святого, который «выявил в себе самом замысел Бога о нем»16. А такое выявление — задача, призвание христианина17.
Все это помогает понять, почему именно канон способен выполнять роль верховного регулятора культуры, объединяя все уровни ее структуры (и непосредственное бытие — тоже) и обеспечивая при том истинную иерархию — священноначалие, не преграждая путь истинной свободе, но способствуя достижению ее. Парадигма же в качестве жесткого образца способна поддерживать только субординацию. Как лишь «относительный, временный и внешний «порядок» ценностей, который людям в жизни видится или который они сами сознательно или невольно устанавливают (порой даже думая, что он таков и есть или должен быть)»18 субординация (и парадигма, ее выражающая) может вызывать у людей искусства неприятие, иронию. В конце XIX — начале XX веков художники и писатели с увлечением обращались к искусству минувших времен. И то, в чем когда-то (наример, в XVIII столетии) видели красивое, изящное или величественное, что раньше представало как приличествующее и должное, теперь выступало в свете любования, соединенного с иронией. Наглядно такое соединение старого и нового, своего и «чужого» проявилась в творчестве мирискусников. Сегодня признано, что объединение «Мир искусства» несло в себе признаки широкого движения, выразившего суть отношения к творчеству в ту эпоху.
Щегольская точность в изображении внешнего мира, давно (или недавно) ушедшего в прошлое, именовалась «эпошистостью», сменяла порой глубокий историзм литературы XIX века. «Эпошистость» оставалась на втором месте в сравнении с важностью индивидуального видения и осмысления. При главенстве словесно-мыслительного уровня (или — пользуясь терминологией «Исторической поэтики» 1994 г. — при индивидуально-творческом типе художественного сознания) вполне серьезного следования парадигме (образцу, еще и образцу давно устаревшему), выполнения внешних «правил» быть не может. Искусство прошлого, эстетически освоившее в свое время действительность, привлекало внимание, использовалось, карнавально обыгрывалось, но диктовать законы, устанавливать нормы не могло. Таких правил не принял бы художник, считавший инивидуализм необходимым двигателем творчества, дерзновенно создававший свои «миры».
А в литературе возможность подобного рода дерзновений неизмеримо шире, чем в архитектуре. Поэтическое своеволие, игра воображения увлекали Ф. Сологуба, воспевались В.Я. Брюсовым. Рожденное в воображении и закрепленное лишь словесно казалось безопасным, что и выразил К. Бальмонт своими строками об отрадности «подойти вплоть до зла, / И его не совершив — посмотреть, / Как костер вдали, за мной — будет тлеть». Характерна уверенность поэта в том, что зло, вошедшее в стихи, как бы и не совершено. Подожженные города остаются в мечте, более заметна собственная готовность погибнуть.
Наиболее глубокие поэты (Блок, в первую очередь) ощущали опасность подобного приближения к области зла, понимали, какого рода утраты в этом случае грозят. Именно Блок (в традициях Достоевского) показал вытеснение лирического героя его двойником — враждебным и пошлым. Традиции такого осмысления опасности зла есть и в древнерусской литературе, но проще и уместнее вспомнить слова молитвы к Ангелу Хранителю: «Не даждь места лукавому демону обладати мною, насильством смертнаго сего телесе».
А для общей атмосферы художественной жизни той эпохи характерна решимость вторнуться в область зла — в произведениях литературы, искусства. Таким путем совершалось расширение возможностей эстетического освоения действительности. Этот подход и выражен К. Бальмонтом в его программной книге «Горящие здания». По отношению к такому сборнику стихов трудно впасть в субъективность. При переиздании его поэт дал в качестве предисловия материалы, озаглавленные «Из записной книжки», где сказано: «Я был захвачен страстной волной, которая увлекла меня и держала в плену, бросала вверх, бросала вниз, и я не мог выйти из нее, пока не овладел ею, поняв ее сущность». Записано было в 1899 году, а в 1904 поэт уточнил свою мысль (он не отошел от нее, не счел ошибочной): «Мне близки звери и герои. (...) Мне понятны вершины, я на них всходил, мне понятно низкое, я низко падал, мне понятно и то, что вне пределов высокого и низкого. Я знаю полную свободу»19.
Снятие оценок, размывание граней — характернейшая черта искусства эпохи. В этом А. Блок видел опасность декадентства, хотя и сам отдавал дань тем же приемам — так новы и увлекательны они были. Не случайно метафора, дающая возможность соотнести самые отдаленные явления, найти самые неожиданные связи, усмотренные создателем одного из художественных «миров», стала такой распространенной, превратилась из частного приема в принцип.
Разрешение себе художником движения в область зла увеличивает возможность героизации, ухода в «сладостную легенду» (Ф. Сологуб). Характерный «романтический активизм» и раньше (в XIX веке) был связан с поэтизацией зла, а век серебряный, с его неоромантизмом, еще продвинулся по этому пути. Вполне возможным становился процесс, который в терминах современной культурологии описывается как инверсия — переворот, перестановка ценностных полюсов (положительного и отрицательного) в результате паритисипации (природнения) к отрицательному20. Возможен он тем более, что героизация (а не просто любование) уже не сопровождается иронией.
Рубеж веков отмечен установлением особенно тесной связи писателя и читателя, постепенным осознанием такой связи. Позднее читательское сотворчества автору точно охарактеризовал И.А. Ильин: «читать, значит внимать, т.е. «имать», брать внутрь созданное и предложенное автором (...) Писатель ведет и показывает, а читатель призван идти за ним и верно видеть именно то самое, что старается показать ему писатель (...) Для того, чтобы это удалось, читатель должен доверчиво раскрыть и предоставить автору всю свою душу»21. И.А. Ильин писал это применительно к творчеству И.С. Шмелева, которого понимал как писателя религиозного. Но читатель «брал внутрь» и то, что настойчиво, завораживающе предлагали писатели рубежа веков, не замечавшие часто, что многообразие вдруг открывшихся возможностей идет от множественности проявлений зла. В Ареопагитиках сказано, что «добро происходит от единой всеобщей Причины, зло же от многих частичных оскудений»22, и «причин зла много»23. Если вернуться к уже упоминавшемуся сборнику стихов К. Бальмонта «Горящие здания», то можно убедиться, что разнообразие тематики здесь связано с множеством проявлений зла.
Мастерами Серебряного века сделано немало профессиональных находок, способствовавших живому и чувственному восприятию созданных ими произведений. Представляется существенным пояснение, данное преосвященным Василием (Родзянко) к тексту Библии, где говорится о древе познания добра и зла: русское слово «познание», достаточно точное, все же не исчерпывает весь смысл подлинника, всю его глубину. Еврейское слово «яда», читающееся в подлиннике, «выражает собою не просто интеллектуальное, теоретическое или абстрактное знание предмета, не «отрешенное знание» математика, а скорее опытное познание в личном переживании»24. Именно к опытному познанию в личном переживании и приближается восприятие книги талантливого писателя читателем. Тем больше ответственность писателя, и она, а не упоение свободой воображения должна быть ведущей в деятельности того, кто надеется на вполне адекватное восприятие своего произведения. Сознание же ответственности признано важнейшим показателем личностного начала другим богословом русского зарубежья — протоиереем Василием Зеньковским25.
Серебряный век предшествовал трагическим событиям, заставившим многое осмыслить заново. В пору такого осмысления И.А. Ильиным была разработана философская концепция христианской культуры. В ней много внимания уделено проблеме правильного выбора того, что качественно высоко, совершенно. Философом ставился не только вопрос о готовности умереть за то, во что веришь, но и о истинности того, за что готов человек отдать свою жизнь. Только обращение к истинно священному может способствовать восстановлению в культуре высшего регулятора ее — канона.
Искусство Серебряного века проникнуто стремлением к необычному, небывалому, способному продемонстрировать незаурядность художника. Бегство от массового вкуса оборачивалось излишней усложненностью и изощренностью формы, предельной многозначностью содержания. Художники уходили от простоты26, впадая в своих усилиях в явную суетность. Это и привело к признанному быстрому «утомлению» стиля модерн. Но и в 1910-е годы, когда пришла пора авангарда, должный урок не был извлечен из деятельности предшественников. Представление о магической силе искусства пришло из символизма в авангард. А ориентация на примитив и грубоватость не внесли настоящей простоты, это была лишь «смена приема».
Простота высшая осталась в стороне от исканий художников-магов, какими они себя считали. Та простота, которая есть чистота. Евангельский церковно-славянский текст «аще убо будет око твое просто, все тело твое светло будет» переводится на русский язык словами: «если око твое чисто будет, все тело твое будет светло» (Мф. 6, 22).
Иерархия (священноначалие) есть порядок «абсолютный и объективный. Ни нарушить, ни изменить его невозможно — можно нарушить правильное представление о нем»27. Не случайно идея ранга в учении И.А. Ильина о христианской культуре занимает ведущее место.
Последний аспект, к которому необходимо вернуться — стремление к героизации обыденности, так и оставшееся в мечтах. Уместно вспомнить, что Н.С. Лесков предлагал отличать от героизма и предпочитал героизму праведничество. На рубеже XIX-XX веков мысль о праведничестве возникала редко. И не удивительно. Праведничество как идеал не очень-то «вписывается» в поэтику Серебряного века при всей ее открытости. Тотальное обновление, небывалость (с любовно-ироническим использованием узнаваемых образцов культуры прошлого) — девиз модерна. Смирение не принимала и З.Н. Гиппиус, пытавшаяся создать религиозную поэзию на основах «неохристианства». И лишь после катастрофы, оторванные от родной земли, писатели начинают ценить не событие, а «бывание», которое увидел Б.К. Зайцев в жизни Афона.
Б.К. Зайцев, И.С. Шмелев в художественной прозе, И.А. Ильин в программных философских работах утверждают православные духовные ценности, показывая, что путь духовного обновления идет через насыщение повседневной жизни устремленностью к высшему и совершенному. В такой повседневности, при всей ее внешней скромности, нет и не может быть пошлости, так как вся она своим главным содержанием имеет обновление. В ряде произведений Шмелева повторяется мысль от том, что высшая красота может быть определена только как «живое» и у Господа «все живо».
Современная культурология фиксирует представления о большом художнике как о демиурге, как о подлинной личности, которая «в полном смысле слова творит миры»28 (что и считается признаком личности). Эта формулировка прямо связана с образом художника, рожденным Серебряным веком. Между тем удачи и неудачи искусства той эпохи свидетельствуют: в искусстве, в жизни выявление истинно ценного, бесконечного невозможно вне Церкви.
Татьяна Александровна МАХНОВЕЦ,
доцент кафедры русской и зарубежной литературы МарГУ
Примечания